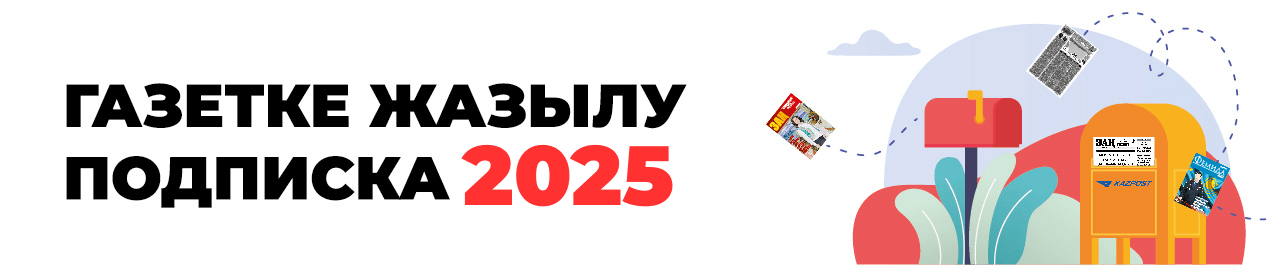В продолжение статьи «Исключая детализацию в законах» (Юридическая газета №10 (3714), 07.02.2023 г.) в данной публикации рассматриваются вопросы разрешения последствий и рисков, которые прогнозировались нами на стадии принятия очередной административной реформы.
Предоставление государственным органам возможности нормативного регулирования без излишней или как уточняется в указе Главы государства «чрезмерной» конкретизации на законодательном уровне компетенций, функций и полномочий было одной из целей последней реформы. Другие направления реформы также преследовали установление более гибких и оперативных механизмов принятия решений. Не стала исключением в этот раз и уже «привычная» децентрализация полномочий, поскольку она повышает ответственность членов Правительства, о чем не раз указывалось высшим руководством страны.
Простые на первый взгляд цели по повышению ответственности первых руководителей государственных органов, обеспечение их возможностью упрощенного принятия решений, потребовали на самом деле существенных изменений в системе законодательства, основы которой оставались неизменными в предыдущих реформах.
До этих изменений в законодательных актах предусматривались конкретные полномочия и функции государственных органов, детализировались механизмы регулирования. Связано это было с наличием нормы, которая позволяла уполномоченным органам принимать нормативные правовые акты только в случаях, когда компетенция «прямо» предусмотрена законодательством. Ранее, такая норма содержалась в Законе Республики Казахстан «О нормативных правовых актах», а в последующем, после признания его утратившим силу, такая норма была закреплена и Законом Республики Казахстан «О правовых актах».
В рамках административной реформы это требование исключено и теперь появилась возможность определять «границы» полномочий государственных органов в положениях о них. Безусловно, такое исключение упростило введение нормативного регулирования в той или иной сфере. Теперь Глава государства или Правительство своими актами могут наделить нижестоящие органы любыми компетенциями и при необходимости оперативно корректировать их.
Ранее до принятия этой административной реформы законодательные акты не были настолько лишены конкретизации в части компетенций, функций и полномочий государственных органов. Теперь же при наличии нового порядка возникает ряд неопределенностей. Так, в некоторых случаях достаточно сложно определить, насколько предлагаемый подзаконный акт «связан» с самим законом, соответствует ли тот или иной вводимый инструмент с целями и задачами закона. Усугубляет ситуацию и возможность различного толкования норм законов.
Исключение «прямой» компетенции породило также весомый риск превышения тем или иным государственным органом своих полномочий в разрезе определенных отраслевыми законами задач. Иными словами, возник риск принятия подзаконного акта, выходящего за рамки регулирования закона. Стал нивелироваться принцип о том, что подзаконный акт должен иметь непрерывную связь с законом.
Важно понимать, что подзаконные нормативные правовые акты не могут приниматься без наличия предопределяющих норм в законе, поскольку они предназначены для их реализации, об этом свидетельствует сам термин «подзаконный» и его определение в Законе Республики Казахстан «О правовых актах».
Принимая во внимание прямое действие закона, ранее не приходилось задумываться о необходимости той или иной функции государственного органа. Теперь же, когда задача стала сложней, на помощь приходят нормы Закона «О правовых актах», которые законодатель все же сохранил на фоне исключения «прямой компетенции». Речь, в первую очередь, идет о статье 24 Закона «О правовых актах» (далее – статья 24 Закона), которая четко указывает, что в законах устанавливаются основные цели, задачи, принципы, компетенции и полномочия регулирования соответствующей отрасли (сферы), а в целях реализации положений закона в подзаконных нормативных правовых актах они могут быть детализированы.
Детализация норм законодательного акта, вот ключевое предназначение подзаконного нормативного акта, которое зачастую упускают из вида уполномоченные государственные органы.
При применении статьи 24 Закона также следует соблюдать ее требования о том, что не допускается установление в подзаконном нормативном правовом акте нормы, выходящей за пределы норм, установленных законами. Не допустимо, под обширную норму закона «подводить» любые произвольные формулировки.
Наличие нормы статьи 24 Закона дает надежду на то, что система законодательства в Республике Казахстан не будет нарушена и подзаконные акты не будут «оторваны» от самих законов. В данном случае качественная экспертиза проектов положений государственных органов, проводимая на сегодняшний день органами юстиции, может стать определяющей.
Необходимо понимание того, что неточное применение норм статьи 24 Закона может привести к постепенному игнорированию основных положений законов, а следом и к их неактуальности. Не стоит исключать и возможность введения «выгодного» регулирования подзаконным актом вопреки нормам законодательного акта.
С другой стороны, не во всех случаях компетенции и функции устанавливаются в подзаконных актах, то есть в положениях государственных органах. Как показывает практика, они могут быть установлены и законами. Но как разграничить функции между законами и подзаконными актами?
На этот вопрос также имеется ответ в нормах Закона «О правовых актах». Если следовать статье 24 Закона, то установление компетенций и функций на уровне законов должно осуществляться согласно требованиям статьи 61 Конституции Республики Казахстан. Иные компетенции и функции государственных органов (реализационные, организационные и другие) должны устанавливаться подзаконными нормативными правовыми актами.
Иными словами, компетенции и функции, затрагивающие важнейшие общественные отношения, в частности, касающиеся вопросов, перечисленных в пункте 3 статьи 61 Конституции Республики Казахстан, должны предусматриваться в самих законодательных актах. Законодательное закрепление компетенций, затрагивающих права, свободы и обязанности граждан, четко определяет рамки и пределы действий органов власти и обеспечивает гарантии для граждан.
На первый взгляд, указанные выше вопросы разграничения понятны, но на практике это весьма сложно, поскольку любые акты в какой-то степени касаются прав и свобод граждан.
Исходя из всего этого, можно прийти к выводу, что определение так называемого духа закона, может стать «ключом» для решения этой задачи. Но для этого необходимо правильное целеполагание в законах, которое заключается в обозначении главной цели и пути к ней. Предусматривая в законодательных актах главную цель, необходимо закрепить конкретные задачи и существенные для законодателя основные моменты, то есть выстроить некую базовую структуру, позволяющую далее ее детализировать на уровне подзаконных актов.
В свою очередь, наличие в законах четко выделенных целей и задач делает принятие детализирующих подзаконных актов не просто необходимым, а обязательным условием для эффективной реализации заложенных целей. Такая иерархичная структура позволяет обеспечить взаимосвязанность норм и системный подход, при котором подзаконные акты становятся логическим продолжением и инструментом для достижения главной цели, закрепленной в самом законе.
Ильяс Жукенов
MPhil Университета Кэмбридж